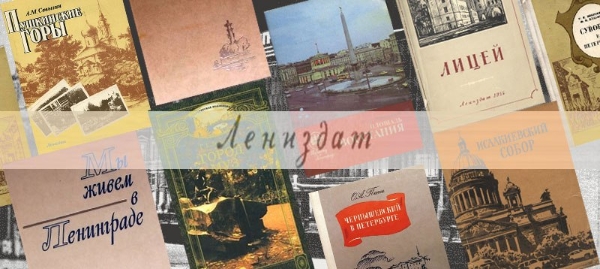Лениздат. Дом печати. 1960–1990-е годы
Продолжаем знакомить вас с воспоминаниями Инны Слобожан. В своих мемуарах она описала то, каким были Лениздат и его сотрудники в разные годы, нарисовала яркие сцены интересной и трудной издательской жизни. В начале октября 2016 года на нашем сайте был опубликован первый материал из этого цикла, а в конце октября, к глубочайшему сожалению, Инны Ивановны не стало. В память об этом замечательном человеке и друге, успешном редакторе легендарного издательства мы продолжаем публиковать эти мемуары.
Окончание. Начало >>
Коммунальная квартира
Этот дом на Фонтанке, 59, известен был в Ленинграде всем. Кто-то сравнивал его с муравейником, кто-то – с ульем, но все же точнее всего было бы сравнить его с коммунальной квартирой, где каждая семья имела изолированное жилое помещение и одну общую для всех кухню. Так было и в этом доме.
Пятый и четвертый этажи занял Лениздат: на верхнем этаже разместились редакции, на четвертом – вспомогательные службы, директор и управляющие типографией. Третий этаж был отдан «Ленинградской правде», второй – «Вечернему Ленинграду» и «Смене». Впоследствии нашлось место и для «Ленинградского рабочего», и для «Ленинских искр». Роль общей коммунальной кухни выполнял буфет на третьем этаже – как сказали бы сейчас, «дочернее предприятие» ресторана «Метрополь».
Конечно, нам было жаль нашего особняка, хотя здесь и было просторнее. Ну точно как переезд из тесной, но собственной «хрущевки» в просторные комнаты… но в коммуналке. Здесь, на Фонтанке, 59, редакторы наконец получили нормальные условия для работы. Каждой редакции выделили несколько комнат, причем заведующих отселили от редакторов в отдельные кабинеты. Цель была благая: не мешать редакторам работать, ведь к заведующим ходят толпы настоящих и будущих авторов. Что из этого получилось, стало ясно впоследствии.
Редакция краеведческой литературы после ухода Елизаветы Ивановны долго не могла найти своего особенного лица. Заведующие сменяли один другого, редактора тоже многие попали сюда случайно и при первом же подвернувшемся случае уходили на более спокойное, более выгодное место. Таким местом всегда считалась так называемая общественная работа. Сидеть в парткоме у телефона в роли секретаря – чем не работа, а уж про местком и говорить нечего: вроде при деле, и голова не болит, и ни за что отвечать не надо.
Пришел и новый главный редактор – Дмитрий Терентьевич Хренков. Но мы по-прежнему продолжали по всякому поводу и без него обращаться к нашему старому главному, благо что жил он рядом. Относили ему рукописи то на редактирование, то на рецензирование, то приносили верстку или сверку. Я как-то раз даже высказала недоумение: неужели мы настолько беспомощны, что не можем без няньки и шагу ступить. В ответ Хренков объявил, что я страдаю юношеским максимализмом и кое-чего еще не понимаю. Мы без Соловьева обойтись можем. Он без нас – нет. Поэтому мы просто помогаем ему выжить после столь тяжелой травмы. Как-то раз и меня послали к нему с какой-то рукописью. Я была поражена, почему в своей просторной квартире он устроил себе рабочий кабинет… в кладовке. В самой настоящей кладовке площадью один квадратный метр помещалась полка, на которой уместились рукописи и лампа, рядом стоял стул. Для стола места не было. А в углу кладовки стояли костыли и протез. Главный говорил, что протез неудобен, и надевал его редко, но всегда держал рядом с собой. Он был бодр, весел, готов был много работать, радовался нашим приходам. А вскоре раскрылась и маленькая тайна, которая считалась недоступной моему пониманию. Оказывается, наши мужчины приносили сюда вместе с рукописями и… четвертинки водки, которую наш В.Б. прятал в протезе. Прятал, конечно, от жены, которая так и не догадалась, как муж добывает водку не выходя из кладовки.
Новый главный редактор пригласил на должность заведующего краеведческой редакцией журналиста по образованию и по опыту работы Якова Львовича Сухотина. Редакции наконец-то повезло. Профессиональный журналист, пришедший прямо из «Ленинградской правды», он разворошил сонное болото. Прежде всего, он нашел новые темы, новые направления, привлек новых авторов, что для него было нетрудно, ведь он прекрасно ориентировался в журналистской среде. Так появились новые серии, например, книги об архитекторах Петербурга, о тех, кто создал неповторимый облик города. Получила продолжение и развитие серия книг о знаменитых писателях, живших и творивших в Петербурге. Появилась серия книг об истории районов города. Выходили разнообразные путеводители – и в целом по городу, и по пригородам. Вышла серия книг по истории городов Ленинградской области. Появились книги о памятных местах не только города, но и области. Без преувеличения можно сказать, что Сухотин создал такой задел, на котором смогли безбедно существовать заведующие, пришедшие после него.
Появление такого огромного количества новых книг по истории города не осталось незамеченным. На телевидении решили сделать специальную передачу о нашей литературе. Подробности переговоров мне неизвестны, а результат был таков: отправились туда главный редактор Хренков, заведующий краеведческой редакцией Сухотин и я. Рассказывали о своих книгах, о своей обычной работе. Когда передача закончилась, прибежала главный редактор этой программы (имени я не запомнила, а фамилия, кажется, Алешина) и стала горячо приглашать меня работать на телевидении: сказала, что я хорошо «смотрюсь в кадре», как раз так, как нужно, что голос мой и тембр ее особенно впечатлили, словом, они давно искали именно такого человека. Я не успела сказать ни да, ни нет, как буквально взорвался от возмущения Хренков: «Это еще что?! Нечего переманивать у нас кадры! Она нам самим нужна! А вы растите себе кадры сами!» Он долго не мог успокоиться, и даже когда мы уже возвращались обратно, все честил в хвост и в гриву телевизионные нравы. Так что я о телевидении даже не заикалась.
А Сухотин продолжал экспериментировать. Следующим шагом его была попытка заставить писать каждого редактора. Он справедливо считал, что настоящим редактором может быть только тот, кто сам побывал в шкуре автора. И вот он придумал сборник очерков о самых выдающихся местах – «Достопримечательности Ленинграда» – и буквально заставил всех редакторов выступить в роли авторов. Отказаться было невозможно, но почти для всех эта проба пера так и осталась единственной. Конечно, он и сам понял, что стать писателем из-под палки невозможно, что наличие филологического диплома еще не гарантирует творческих способностей.
Только-только мы обустроились на новом месте, как грянула подготовка к грандиозному празднику – к 50-летию Октябрьской революции и к 50-летию Лениздата. Для проведения торжеств договорились с соседним театром имени Горького (ныне имени Товстоногова), закупили билеты на какую-то дефицитную постановку (а в этом театре все постановки были в огромном дефиците), а до ее начала провели торжественную часть. Зачитывали многочисленные поздравительные телеграммы, в том числе правительственные, принимали поздравления и от руководителей города, от коллег из других издательств. Потом перешли к награждениям. Когда после звуков гимна зачитали Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о награждении грамотой Верховного Совета РСФСР и дальше прозвучала моя единственная фамилия, я, прямо скажу, от неожиданности остолбенела, пока товарищи не вытолкнули меня к сцене для торжественного получения этой награды. Самое удивительное было в неожиданности и в том, что я оказалась единственной из редакторского корпуса, и потому чувствовала себя как-то неуютно. Но мне объяснили, что на тот момент это была высшая награда в РСФСР, а таких наград много не бывает. За этим последовали грамоты комитетов по печати – республиканского и союзного. Их раздали немало. Словом, десятилетие моей работы в Лениздате неожиданно было оценено столь высоко (в скобках замечу, что, наверное, это непедагогично – отмечать лишь одного человека, ведь он сразу становится объектом зависти, вызывая желание как-то «отомстить», насолить ему и т. д., что очень скоро и подтвердилось).
Между тем на нашем пятом этаже все чаще стали появляться обитатели третьего и второго этажей. Это были наиболее активные, наиболее творческие журналисты с ворохом разнообразных идей, которые просто не помещались на газетных полосах. Одна за другой стали выходить их книги. Наиболее частым «гостем» стал Юрий Стволинский, выпустивший в Лениздате несколько книг – о конструкторах советского надводного флота, о создателях подводного флота и много других. Виктор Шурлыгин успешно стартовал в «Белых ночах», ярко проявили себя также Игорь Лисочкин, Яков Пановко, Игорь Чурин.
Со временем выяснилось, кто из лениздатовцев и хочет, и может писать. Это Игорь Куберский, Олег Стрижак, они стали со временем профессиональными писателями. Приведу лишь одно четверостишие Игоря Куберского:
Я, крещенный войною,
На войне не убит.
За отцовской спиною
Мое детство стоит.
Это стихи настоящего, большого поэта. Он возглавил редакцию историко-партийной литературы, придя на смену Афоничеву, и сделал много для ее развития, как и Сухотин – для краеведения. По примеру московского Политиздата, выпускавшего серию книг «Пламенные революционеры», Куберский стал выпускать книги о героях революции, прославившихся в Петербурге. Я решила попробовать свои силы в новом для меня жанре документальной повести. К этому времени я написала и издала несколько небольших краеведческих книг, жанр повести был для меня новым.
Я начала со сбора материала о герое революции Александре Ракове: после работы бежала в архивы, в Публичную библиотеку, читала газеты того времени, потом нашла родных Ракова, вместе мы съездили на место его гибели в деревню Выра под Гатчиной. Там сохранился дом, в котором погиб, отстреливаясь, Раков. Нашли яму, куда белые сбросили тела убитых ими. Мне посчастливилось найти даже участников и очевидцев тех событий. Только собрав огромный материал, начала писать, использовала время отпуска.
Игорь поддерживал, подбадривал, помогал советами, ведь он уже был автором и поэтических, и прозаических книг. Так и появилась моя повесть об Александре Ракове «Сердце комиссара».
«Белые ночи»
А тематика краеведческих книг продолжала расширяться. И в какой-то момент стало ясно, что у нас за бортом остается очень много разнообразного материала, который на отдельную книгу не тянет, но зато небольшой очерк может получиться интересным. И мы с Сухотиным стали думать: а как объединить эти такие различные материалы? Нужно было придумать какой-то стержень, какую-то общую идею для самых разномастных материалов, чтобы поместить их под одной обложкой, с единым названием. Перебрали десятки вариантов. Порой одолевали сомнения: о писателях есть отдельные книги, об архитекторах тоже. Всем наиболее интересным местам также уже уделено внимание. Что делать? Как быть?
Решили идти, пожалуй, самым трудным путем. Пусть наш будущий сборник будет сборником открытий. Но попробуйте найти нечто неизвестное в городе, изученном вдоль и поперек. Я предложила несколько вариантов названий, мне нравился «Антей» (в противовес московскому «Прометею»), но был и десяток других. Показали директору. Он выбрал сразу «Белые ночи» и все наши сомнения прекратил. А в качестве связующего стержня я предложила подзаголовок: «Очерки. Зарисовки. Документы. Воспоминания. О тех, кто прославил город на Неве». Предложила двухуровневую верстку, которая позволяла помещать не только большие очерки, но и маленькие, пусть частного характера, но интересные.
Так постепенно, шаг за шагом стал вырисовываться облик будущего альманаха. Да, мы видели его именно альманахом, то есть периодическим изданием. Но на периодику требовалось разрешение, получить которое мы не надеялись. И решили выпускать потихоньку, раз в год или раз в два года как обычную очередную книгу из официального плана выпуска литературы.
Создали редакционную коллегию из самых известных в городе, уважаемых лиц. Конечно, ни Аникушин, ни Товстоногов, ни Дудин, ни Моисеенко редактированием не занимались. Подбор авторов и материалов был полностью на мне. Но они помогали советами – каждый в своей области.
Аникушин и Моисеенко
Когда начали формировать редколлегию «Белых ночей», то первым вспомнили, конечно, Дудина – он всегда был рядом и во всех начинаниях принимал живейшее участие. Он согласился сразу. Потом решили обратиться к Аникушину: автор памятника Пушкину у Русского музея в Ленинграде был очень популярен. Он тоже поддержал идею альманаха, но сразу заявил: «Я без Евсея не пойду». А когда оказалось, что мы вообще не понимаем, о ком речь, он прочитал нам сразу «лекцию» о профессоре Академии художеств, народном художнике СССР, академике Евсее Евсеевиче Моисеенко. Понятно, что такое имя только украсило бы альманах. Договорились и с ним.
Оказалось, что оба – народные художники СССР, кроме того, и близкие друзья. С тех пор так и повелось: в редакции Аникушин появлялся только вместе с Моисеенко. Внешне они были полной противоположностью друг другу: высокий, статный, широкоплечий Моисеенко, настоящий русский красавец-богатырь, и скромный, худощавый, как-то смущающийся при общении Аникушин. Само собой напрашивалось сравнение с Ведущим и Ведомым, правда, этими ролями они постоянно менялись. Когда я познакомилась с ними ближе, побывала в мастерской Аникушина, собирая материал для очерка о нем, я поняла, что он – великий мастер скульптуры – отнюдь не мастер «разговорного жанра» и вытащить из него слово о собственной работе невероятно трудно, почти невозможно. Пришлось обратиться к Моисеенко с просьбой рассказать о своем друге.
На этот раз Евсей Евсеевич пришел один. Сразу обратил внимание на рисунок над моим столом. Стал его рассматривать. Пришлось объяснить: это Дудин нарисовал мой портрет.
– Похоже, не правда ли?
– Для рисунка это не так сложно и не так важно.
– А что же важно?
– Важно передать через картину или рисунок суть человека. У Дудина это не получилось… Да это вообще-то и есть самое трудное в искусстве портрета.
– А в чем же моя «суть», если похожесть не в счет?
– Трудно передать словами, но если б я взялся за ваш портрет, то постарался бы передать особое выражение лица, и главное – взгляда. Показать человека через его глаза – вот что самое трудное. А у вас особенный взгляд, особое выражение, я бы сказал, что-то от старой питерской интеллигенции… Конечно, выражение и лица, и глаз у человека меняется непрерывно и удержать и передать нужный оттенок непросто…
– «Старая питерская интеллигенция»? Откуда? Моя бабушка была горничной у одной, как она говорила, «очень доброй графинюшки», которая сама наряжала и прихорашивала ее на свадьбу, о чем бабушка благодарно вспоминала всю жизнь, а дед был камердинером у графа. Правда, все это происходило в Питере, так что питерские «корни» все-таки есть…
– Неважно, КТО был тот или иной человек. Главное – КАКОЙ он был. Это относится абсолютно к каждому человеку: главное – КАКОЙ ты человек!
Так вот с простого рисунка и начался разговор об искусстве, и не только о нем. Я потом не раз вспоминала этот разговор и жалела, что не уговорила его и вправду написать мой портрет… (Удивительно, но эти слова о «старой питерской интеллигенции» вскоре повторил Юлиан Семенов.)
С Моисеенко я все последующие годы встречалась часто, и каждый раз он удивлял меня необыкновенной глубиной и оригинальностью суждений. Я бы сказала, что прежде всего он – МЫСЛИТЕЛЬ И ФИЛОСОФ, а художник – это уж одно из возможных проявлений его таланта. Он не только остро видел цвет, но так же остро слышал звук и чувствовал слово. Недаром он так любил поэзию, особенно Есенина. К этому надо добавить, что так же остро чувствовал он человека.
Пыталась я разговорить Аникушина о его друге. Тут он оказался более многословен. Намекнул даже, что во время войны Моисеенко попал в плен… А что это значило в советское время? Бывший пленник мог попасть затем и в советский лагерь. Этой участи он, к счастью, избежал, но некое «клеймо» на нем как бы присутствовало все время. Вот почему Аникушин так старался помочь другу во всем, отсюда его знаменитое «я без Евсея никуда!»
Лишь сейчас, когда нет среди нас ни того, ни другого, можно наконец узнать, что Моисеенко ушел в ополчение в первые же дни войны и очень скоро попал в плен, а из плена его освободили союзные войска лишь в апреле 1945-го. Последние недели войны он был в армии, успел немного повоевать в кавалерийских частях. Эта тема нашла отражение в его картине «Генерал Доватор».
Это только представить – четыре года во вражеском лагере! Об этом бы написать книгу, но – увы! – в советское время об этом лучше было помалкивать. Остается только догадываться, в каких условиях ковался этот многогранный, этот могучий талант. И понятно, почему он ушел так рано…
А на память о Моисеенко мне осталась его военная фотография – молодого красивого парня в солдатской гимнастерке – и, конечно, альбом репродукций его полотен – знаменитого художника – с трогательной дарственной надписью.
Альманах альманахом, но оставалась ведь и ежедневная будничная редакторская работа – с новыми книгами, с новыми авторами. Вот один из них…
Человек-фейерверк,
или Принц голубых кровей
Когда в редакции объявили, что нам доверено выпустить книгу САМОГО Зазерского, первая реакция у всех была – отказаться.
– У меня и так полторы нормы…
– А у меня молния, сами же дали…
– А у меня, а у меня, а у меня…
– Значит так. Книгу будет вести Слобожан. Это распоряжение главной редакции, – заявил заведующий безапелляционно.
Так у меня на столе появился толстенный «кирпич» под названием «Ленин. Эмиграция. Петербург».
Елки-палки! Мало того что сама тема привлечет внимание всякого начальства, так еще и такой автор! О Евгении Яковлевиче Зазерском и его взрывном характере в городе слагали легенды – и о его борьбе с женскими брюками, и о борьбе с курением, и о борьбе с мужской расхлябанностью в одежде… В этих легендах он представал человеком, не знающим удержу ни в чем: все у него было в превосходной степени – если хвалил, то до небес, если низвергал, то в пропасть. Что в этом было правдой, а что нет, попробуй узнай! Одни его боялись, другие восхищались, а кто не знал, на всякий случай старались держаться в стороне. Мой новый автор был ни много ни мало секретарем обкома партии по пропаганде, наверное, вторым человеком в городе, отвечавшим за работу газет, издательств и прочих СМИ.
Я надеялась только на то, что в книге был соавтор – А. Любарский и что я буду иметь дело лишь с ним. Но вот однажды к нам в кабинет вбегает секретарь главного редактора, женщина уже преклонного возраста – вся раскрасневшаяся, с растрепанными седыми волосами, и в каком-то невменяемом состоянии бубнит:
– Там… Там у меня Зазерский… Орет по телефону… Плакаты не туда з-завезли…
– Ну и что? Пусть орет…
– А вы пойдите послушайте…
Пошли, конечно. Надо же мне взглянуть на моего автора. Приоткрываем дверь и слышим… отборнейшую, витиеватую брань: и куда он пошлет незадачливого курьера, и куда он ему наденет эти плакаты, и куда он их ему засунет, и все это, конечно, через так-твою-разэдак, мать-перемать. Но вдруг он услышал хихиканье, обернулся и, увидев секретаря, бросил трубку, бухнулся перед ней на колени, подхватил ее руку:
– Мать! Прости! Прости!..
Ну а я поторопилась убраться с глаз долой. Это было первое, заочное знакомство с моим знаменитым автором. А через пять минут состоялось и очное.
В кабинет вошел спокойный, улыбающийся, уверенный в себе, симпатичный, интеллигентный человек. Поздоровался, представился, дамам ручки поцеловал. Полное преображение. Ну прямо принц голубых кровей! Каков артист! Александринка или БДТ обзавидовались бы.
И началась будничная редакторская работа. Все конкретные вопросы, всю правку я согласовывала с Любарским, а Зазерскому оставались, так сказать, представительские функции, ну и, соответственно, «толкательные». А то, что в умении «протолкнуть», достать, обеспечить, организовать ему не было равных, было всем известно. Так что книга вышла в срок и всем понравилась – то есть, конечно, прежде всего начальству – от местного издательского до наивысшего в городе. В издательстве облегченно вздохнули. Еще бы! Пронесло…
По издательской традиции первую книгу из тиража автор всегда дарит редактору. И вот появляется Зазерский со своей книгой и вручает ее мне с надписью: «Дорогой Инне Ивановне, горячо любимому редактору, верность которой мы сохраним и в следующих наших книгах с признательностью и благодарностью».
Ничего особенного. Все как обычно. Дело сделано. Песне конец… Но не с Зазерским…
– Инна Ивановна! Чтобы у книги была счастливая судьба, полагается ее обмыть… Приглашаю вас составить мне компанию…
– Спасибо… Но у меня же рабочий день…
– Ваше начальство в курсе. Не беспокойтесь…
Ежу понятно, что начальство даже не пикнет, если я уеду с Зазерским хоть на неделю…
В ресторане гостиницы «Европейская» он придирчиво выбирал столик на втором этаже. Официанты ходили кругами, но едва мы сели за столик, бросились к нему. И тут начался спектакль наподобие того, что имел место в кабинете нашей секретарши, так сказать, второе действие. Хотя, конечно, без «так твою, разэдак». Энергия у него по-прежнему била через край.
– Что ты принес? Я же просил тебя вино… какого года?
Погоняв официантов туда-сюда, наконец выбрал вино. Потом все повторилось с закусками. Потом с сервировкой. Ложки не те, вилки не такие…
– А что за бокалы ты поставил? Ты бы еще граненые стаканы принес! Мы что? Будем водку хлестать?
Официанты улыбались, терпеливо сносили все капризы, и мне показалось, даже с удовольствием обслуживали знатного гостя. Все ресторанное начальство кружилось виражами вокруг столика: не понадобится ли гостю что-то особенное?.. Чувствовалось, что его здесь хорошо знали – и боялись, и обожали одновременно. Для них это был уже известный всем ритуал, где у каждого свои роли.
Наконец вино было выпито, закуски съедены, тосты произнесены. Книга обмыта по высшему разряду. Было уже поздно, я начала поглядывать на часы. Он заметил.
– Инна Ивановна! Я отвезу вас домой! Не беспокойтесь!
Казалось бы, можно перевести дух… Но в машине последовало третье действие этого спектакля. Интересно, что он придумает еще? Ведь из «зрителей» остались лишь я да шофер. Но его это ничуть не смутило, неуемной энергии постоянно требовался выход.
Только выехали на Невский – и началось:
– Останови здесь!
– Здесь нельзя, – робко возразил шофер.
– Я сказал: останови – на полминуты! – Выскочил из машины и куда-то кинулся.
Оказалось, к цветочному киоску. Вернулся с охапкой роз, которую и вручил мне.
Но теперь-то уж все? Надеюсь, поедем не останавливаясь. Как бы не так! Не на того попала.
– Останови здесь!
…И начались остановки у каждого цветочного лотка, у каждой бабуси с цветами… Скоро я была усыпана цветами, как садовая клумба.
Я жила около Смольного, так что нам оказалось даже по пути. Лихо подкатили под самые окна. Вылезла я с этой охапкой роз и единственной мыслью – сейчас последует эпилог: явилась мамочка в 9 вечера, вся в цветах и «под градусом». Что делать? Как объяснить все это мужу и детям?
Тихонько прокралась вдоль стеночки. Тихонько поднялась по лестнице. Звонить не стала. Тихонько открыла обе двери нашей коммуналки, сунула цветы между дверей и закрыла половой тряпкой. Остальное объяснить нетрудно.
Утром я достала шикарные розы из-под тряпки и отвезла их на работу. Они даже не привяли и долго стояли у нас на столах, радуя глаз и наполняя комнату волшебным ароматом. Коллеги из других редакций приходили любоваться на это розовое изобилие, как на экскурсию в оранжерею.
Все-таки розы – это всегда розы. А Зазерский есть Зазерский – тут ни убавить ни прибавить!
Но вернемся к альманаху… Едва он начал выходить, на него сразу же обратили внимание в городе. Он стал популярен и среди читателей, и среди профессионалов. Так, Союз писателей на одной из своих секций организовал обсуждение нового издания, где с высокой трибуны было заявлено, что новый АЛЬМАНАХ ДЕЛАЕТ ЧЕСТЬ ЛЕНИЗДАТУ.
Как бы я хотела, чтобы эти слова услышала Елизавета Ивановна, но, увы, ее уже не было с нами. В самом начале нашего пути, когда мы барахтались, как в луже, в малограмотных текстах, она предвидела, что будут у нас со временем и стоящие авторы и настоящие, ценные книги. Она, как всегда, оказалась права!
Конечно, если бы такая популярность была у альманаха сейчас, то сразу же организовали бы специальную редакцию, которая бы обеспечила регулярный выпуск. Мы же в условиях всеобщего дефицита, а для издательства это прежде всего дефицит бумаги, перебивались как умели.
Вместо этого директору пришла в голову другая мысль: если уж она, то есть я, управилась с альманахом, то не дать ли ей попробовать навести порядок у художников, которые испокон века были главной головной болью директора. Как я ни доказывала, что я не художник, нашего директора никто не мог сдвинуть с принятого им решения. И вот я уже заведую отделом художественного оформления, не оставляя и «Белые ночи». На мне были контроль за финансами, соблюдение сроков сдачи оформления по плану и организация открытого обсуждения оформительских работ. Все профессиональные вопросы остались за главным художником.
Я организовала художественный совет, на котором обсуждалось и принималось или не принималось оформление книги, определялась стоимость работы, при этом присутствовали все заинтересованные лица, а наш директор – в первых рядах. Собирался Совет регулярно, и директор присутствовал обязательно. Со сроками тоже удалось разобраться так, чтобы не подводить редакторов с их строгим графиком сдачи рукописи. Что же касается финансовой стороны дела, тут я встретила скрытое, но сильное сопротивление. Оно было понятно и ожидаемо: наши штатные художники получали, кроме твердого оклада, дополнительно за каждую творческую работу – по расплывчатой шкале расценок – «от и до». А нештатные художники только по этой шкале, причем все они полностью зависели от главного художника, который мог дать или не дать работу. Мог оценить ее по низшей или по высшей категории – это было полностью в его власти. Эти вариации расценок и позволяли художникам зарабатывать куда больше редакторов. И не только художникам, но и фотографам, и даже ретушерам жилось куда вольготнее, чем так называемой центральной фигуре издательства, то есть редактору. Но эту проблему никто в одиночку решить не мог, это был вопрос системы. Ну а систему никто изменить не мог, даже директор.
Понятно, что и худсовет, и принятие именно им расценок никак не устраивали главного художника. Поэтому «битва» за расценки достигла даже обкома партии в виде анонимных писем на тему о том, что в Лениздате художниками руководит не художник и потому принимает непрофессиональные решения и т. п. Но в Смольном быстро «разобрались»: главный художник, лишенный распределения денег по своему усмотрению и организовавший все эти «волны» недовольства, вообще был снят с должности, я же, наведя элементарный порядок там, где это было возможно, вернулась в редакцию краеведения (с прибавкой к окладу 10 рублей), а «переворотам» у художников не было видно конца – систему-то никто тронуть не мог… Все-таки прав был директор, всегда считавший художников своей главной головной болью. Но меня это уже не касалось.
Павел Александрович Становой
Он пришел на смену ушедшему на пенсию Л.В. Попову. Пришел из обкома партии, где занимал высокий пост, ведая всеми хозяйственными делами. Он строил знаменитую 31-ю больницу, пионерский лагерь «Зеркальный», жилые дома. Все путевки в санатории, ордера на квартиры и прочие блага распределялись через его ведомство. С карьерной точки зрения назначение директором Лениздата было не просто понижением в должности, а воспринималось как изгнание из высших номенклатурных рядов, как опала, как ссылка чуть ли не в Турухтанский край. Для Павла Александровича это был такой силы удар, который подкосил в одночасье его могучий организм. Удар, с которым он не мог справиться.
Мы-то в Лениздате, не зная еще никаких подробностей, просто обрадовались, что нам повезло с директором. Надеялись, что человек с такими связями поможет решить наши многочисленные проблемы – и жилищные, и проблемы отдыха, и лечения, и чисто профессиональные. Да к тому же он оказался на редкость приятным, простым в общении, справедливым и решительным человеком. И самое главное – ему очень понравилось в Лениздате. После строгой номенклатурной табели о рангах смольнинских коридоров живая журналистская творческая среда настолько пришлась ему по душе, настолько соответствовала его творческой деятельной натуре, что у него не раз горько вырывалось: «Эх, если б я знал…» Он с удовольствием участвовал во всех делах – встречах с авторами. худсоветах и редсоветах. Как опытный строитель, обошел все наши чердаки в поисках помещения для архива и музея Лениздата, которые мечтал создать. Очень ярко выступал от имени Лениздата на всех встречах с читателями – и в ЦПКиО, и на Кировском заводе, и в Домах культуры. И сразу навел порядок с нашим «проходным двором». Если Л.В. Попов иногда позволял себе лично сидеть в вестибюле и ловить опаздывающих (о чем мы были прекрасно осведомлены и пробирались на свои рабочие места «огородами», то есть через типографию), то Становой быстро все изменил, и наш Дом печати перестал быть проходным двором для всех кому не лень. У дверей теперь стоял милицейский пост. Мы проходили по своим удостоверениям, а авторы – по пропускам. И вот однажды постовой не пустил Дудина. Он не знал его в лицо. Что? Дудин должен просить пропуск?! Да ни за что! Постовому мы все объяснили, Дудина пустили, и он, конечно, тут же сочинил эпиграмму.
На Фонтанке стон и вой.
Правит Павел Становой.
Станового от работы
Охраняет постовой.
И, конечно, как обычно, приоткрыв дверь в редакцию и просунув голову, зачитал новый шедевр, ожидая похвалы. Но мы с ним дружно не согласились.
– Нет, Михаил Александрович! Две последние строчки – неверные. Надо поправить так:
Что бы там ни говорили,
Павел – парень мировой!
Да он и внешне выделялся какой-то необычной красотой – высокий, стройный, безупречно одетый, с копной серебряных волос. Говорят, эта красота и погубила его карьеру. Куда бы ни приезжали партийные делегации, везде за главного принимали этого высокого седовласого красавца, а не замухрышистого маленького, незаметного Романова.
Чем ближе знакомился он с новой работой, тем чаще вырывалось у него горькое: «Если б я знал…» Дальше он не продолжал, но и так было понятно: «то я бы не переживал, а радовался переходу на новую работу». Но увы! Тяжелейший стресс, который он пережил, никак было не выбросить из подкорки, не заменить никакими радостями новой, живой работы.
Он лег в «Свердловку», которую сам и строил, якобы на профосмотр. Но оттуда он уже не вышел. Так мы лишились прекрасного руководителя и замечательного человека.
Я продолжила заниматься «Белыми ночами». Норму выработки с меня, старшего редактора, никто не снимал, не уменьшал. А значит, «Белыми ночами» приходилось заниматься вечерами и в выходные дни. И все же альманах более или менее благополучно выходил, пока заведующим был Сухотин. При нем мы успели издать шесть выпусков. Но вот он ушел на повышение, заместителем главного редактора, и для краеведческой редакции, а значит, и для «Белых ночей», опять настали смутные времена.
Я сделала еще одну попытку – присмотреться к телевидению. К этому времени там уже работали трое моих авторов, перешедших туда из газет. Но все дружно не советовали переходить: возможности для творчества были даже меньше, чем в газете или издательстве, перспектива стать диктором и читать чужие тексты, стать «говорящей головой» как-то не вдохновляла. Надзор же за телевидением был даже более жестким и пристрастным. А получить собственную авторскую программу тогда было невозможно. Совет был такой: сиди на месте и не дергайся.
А как сидеть спокойно, когда у нас опять начался «парад заведующих», один слабее другого, как будто в Ленинграде не было достойной кандидатуры. Мы понимали, что правит бал ее величество номенклатура, что выбирать зава пристало только оттуда. Ну и конечно, по так называемому блату.
Так в результате мы получили заведующую, которая на совещании сразу заявила: я рукописи не читала и читать не буду, я в них все равно ничего не понимаю, а редактор за чтение деньги получает, вот пусть он и читает. Заявление более чем странное для бывшего цензора – взяли ее именно из комитета по цензуре. И естественно, у нее не было никаких связей ни среди журналистов, ни среди писателей, то есть где искать профессиональных авторов, человек просто не представлял. И ее никто в творческих кругах не знал. Все это знал наш главный редактор – Хренков, так удачно нашедший нам в свое время Сухотина и так откровенно неудачно, как говорится – ни уму ни сердцу, на этот раз. Он все прекрасно понимал, но его попросил устроить «своего человека» друг, которому главный отказать не смог… Кажется, сейчас это называется протекция, а тогда – просто блат.
Это бы еще можно было пережить, ведь мы уже прочно стояли на ногах. Одна надежда – хоть бы не мешали работать. Но не тут-то было. И начались «подковерные» игры, интриги, сталкивание лбами, которые особенно активизировались, когда был исчерпан задел, созданный Сухотиным, и надо было предложить что-то свое. Но непрофессионалам что-либо новое придумать трудно, решили отобрать у меня «Белые ночи», вроде как модернизировать и выдать за новинку. Такое понятие, как авторское право, существовало только на бумаге, в ходу были совсем другие методы борьбы.
И вот однажды меня приглашают в райком партии и предлагают рассказать, как мне работается с таким популярным изданием. Ничего не подозревая, я рассказала обо всех трудностях и сложностях. И тогда секретарь райкома (не помню ее имени) показала мне письмо – донос на меня, состряпанный редактором краеведения, якобы я беру с авторов деньги и поэтому альманах у меня надо отобрать, а меня исключить из партии (в партийном издательстве это означало еще и автоматическое увольнение). Но, к счастью, на дворе был не 1937 год, доносу не поверили, меня всячески успокоили и просили и впредь спокойно заниматься альманахом, потому что ОН ДЕЛАЕТ ЧЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ЛЕНИЗДАТУ. А донос мне показали для того, чтобы я знала, с кем не надо иметь дела. Конечно, я поблагодарила за доверие, лишний раз убедившись, что порядочных людей можно встретить везде.
Но все-таки для себя я сделала другой вывод: в краеведении работать больше не буду. И я обратилась к руководству с просьбой о переводе в редакцию художественной литературы – ведь это было моей мечтой с первых дней. Просьба, хоть и не сразу, но была удовлетворена.
А чтобы поставить точку в этой истории, надо сказать, что через некоторое время заведующая краеведением передо мной извинилась. Сказала, что произошла ошибка, о которой она очень сожалеет, и предлагает свою дружбу… Но… эта страница уже была перевернута. Я перешла работать в другую редакцию.